Использование материалов сайта возможно при размещении активной ссылки
© 2009 - 2025. Охота, рыбалка, природа - Информационный портал
Вл. Архангельский
СЕРДЦЕ ОХОТНИКА
Всю зиму я писал книгу, а когда пришла весна, как-то скис.
Солнце с каждым днем все раньше и раньше заглядывало в мои оконца, во дворе уже начали набухать почки на тонких ветвях тополя. Шумная колония воробьев закончила крикливые драки из-за гнезд и затихла: птицы занялись выведением потомства. А я вставал поутру, словно неся тяжелый груз, желтел от папирос за длинный весенний день, и где-то в области сердца все чаще и чаще покалывало, сжималось и надсадно ныло.
И впервые за всю жизнь я не принял весну так, как принимал всегда: с радостным возбуждением, весело, с наивной и какой-то необъяснимой надеждой на счастье.
До конца апреля оставалось дней десять. Я оборвал работу на полуфразе и отправился к врачу.
Дородная, с седым пухом над верхней губой и на подбородке, с низким и резким голосом, но такая привычная за много лет, Берта Яковлевна сидела в своем кабинете, словно расплывшись в кресле. Халат на ней был расстегнут, и его явно не хватало, чтобы закрыть пышные формы стареющей женщины. Видимо, в поликлинике уже не могли подобрать для моего терапевта подходящей по размеру спецодежды.
Я знал пристрастие Берты Яковлевны к цветам, главным образом желтым и красным - она не была исключением среди брюнеток и явно предпочитала их всем другим. И я принес ей три веточки южной австралийской акации, которую москвичи упорно называют мимозой.
Она поставила цветы в стаканчик, где только что помещался градусник, мило улыбнулась и сказала мне таким низким голосом и таким строгим тоном, что незнакомый пациент невольно бы оглянулся на дверь, ища выхода:
- Опять пришли с сердцем?
- Колет, знаете ли, сосет и ноет.
- Обычные штучки! - махнула она рукой.- Снимайте рубашку... Минут через десять я вышел из Кабинета с кучей рецептов и строгим предписанием: работать только по утрам, меньше курить, больше гулять, особенно по вечерам, и спать часов девять под теплым одеялом при раскрытой форточке.
Как и всегда, диагноз был незавидный. Но разговор с врачом подбодрил меня.
Я шел по городу в приподнятом настроении, и обычный апрельский день казался мне более радостным.
Солнце ярко золотилось в бледно-голубом московском небе и беспрестанно отражалось вспышками зайчиков в окнах автомобилей и троллейбусов.
Липы в Охотном ряду готовились выбросить первые листики. У Манежа ворковали сотни голубей, славя весну. В скверике возле старого здания университета шумно разговаривали студентки, одетые, как и всегда в межсезонье, кто в шубу, кто в осеннее или летнее пальто. Мимо Александровского садика в сторону Красной площади шла колонна физкультурников в лыжных костюмах, и я даже сделал шагов сто в ногу с нею, заразившись весельем у бодрой молодости.
Насвистывая что-то очень легонькое по мотиву, я пришел домой и обнаружил на столе письмо. Из Старой Руссы писал мне Василий Михайлович, звал на весеннюю охоту.
Письмо было хорошее, дружеское. От него, как мне показалось, остро пахло медуницей, фиалками, весенней лесной прелью, нагретой полой водой. И так вдруг защемило сердце, словно я не брал ружья в руки целую вечность!
Не раздеваясь, я прочел письмо еще раз, с тоской глянул на письменный стол.
- Эх! Переступлю-ка я нормы почтенной Берты Яковлевны! Тряхну стариной! - сказал я себе и побежал на телеграф. А на другое утро рижский поезд уже мчал меня из Москвы в Старую Руссу.
Сердце временами пошаливало, но это не мешало мне жадно глядеть из окна вагона на окрестные дали: на леса, готовые накинуть легчайшее зеленое покрывало; на белые плешинки снега, укрывшиеся в оврагах; на бурные мутные речушки, вырвавшиеся из берегов; на валдайские холмы в синем елочном убранстве и на покрытые ноздреватым зеленым льдом круглые чащи озер, щедро раскинутые до горизонта.
Поспать в поезде не пришлось, и я нервничал, помня предписания врача, но не мог оторваться от мелькавших за окном чудесных картин. Затем начался долгий, пунцовый весенний закат, а вслед за ним удивительно зримо замерцали на черном бархате ночного неба зеленоватые звезды. А во втором часу ночи я уже вышел из поезда и увидал на перроне приземистую фигуру Василия Михайловича. Под пышными рыжими усами улыбался широкий рот,
- Почет! - крикнул Василий Михайлович свое обычное приветствие.- Пошли, батенька, пошли! На столе давно полный ажур: жена варит, парит, без вас и не садились.
- Да мне нельзя наедаться на ночь. Сердце,- робко сказаля, почти не веря, что можно отказаться от хорошего ужина после долгой дороги.
- Что за незнакомые нотки в голосе? - крякнул Василий Михайлович, легко подхватывая мой тяжелый рюкзак.- И что это за интеллигентские штучки? Выше голову, охотник!
Выбирая в полутьме дорогу почище, побрели мы по булыжной мостовой к знакомому домику универмага на улице Карла Либкнехта.
Во втором этаже этого домика и жил Василий Михайлович - небольшой старо-русский начальник, охотник чуть ли не с пеленок, хлебосол и говорун.
Шагнул я за порог его квартиры, и налаженный за долгую зиму уклад жизни полетел кувырком.
Мой приезд был отмечен плотным ужином. И оказалось, что я почти не отставал от Василия Михайловича, который ел по московским нормам за троих.
Затем выяснилось, что левый курок в ружье у моего друга заедает. Днем Василию Михайловичу было недосуг, и мы взялись чинить курок, просидев почти до рассвета. Потом, приличия ради, улеглись в постели, но проговорили до света, не смыкая глаз.
После утреннего чая мы нагрузились вещами, как старые крючники,- пуда по три взвалили на плечи - и отправились на вокзал, гремя котелками, задевая прохожих то ружьями, то длинными веслами-пропешками.
В каком-то забытьи, хватаясь по привычке за сердце, просидел я полтора часа в тряском и душном вагоне пригородного поезда и вылез вместе с моим другом на маленькой станции у реки Полометь.
Две лодки уже стояли на приколе, узкие, длинные, похожие на разрезанные вдоль огромные сигары, верткие, и, как говорил дед Артем, который готовил эти лодки к охоте, "посудины больно кувырдакие".
Я попробовал остойчивость одной из лодок и едва не вывалился за борт, И когда представил я, что мне придется дня четыре не вылезать на берег из такого коварного суденышка, в жаркий апрельский полдень обдало меня холодом.
А уже выше села, под мост, я и глядеть не решался. Вода там с грохотом билась в бетонные быки, на витых желтых струях вскипала пена и мчалась мимо нас грязными порыжевшими шапками. На минуту меня оставила уверенность в благополучном исходе задуманного путешествия: ведь я должен идти иа этой злосчастной душегубке против течения, без обычных весел, с одной лишь пропешкой, которой не пользовался много лет!..
- = -
С Бертой Яковлевной мы встретились накануне праздника.
Я вошел в кабинет и в зеркале над умывальником на какой-то миг увидел свое загрубевшее лицо, крепко, в накат обработанное весенним солнцем, почти коричневое, как сочинский фундук.
И от меня пахло апрелем - медвяным соком деревьев, острым запахом свежих листьев, пьянящим здоровым воздухом водных просторов.
Берта Яковлевна вовсе не поняла, что я принес в себе весну. Она глянула на мою загоревшую физиономию, удивленно подняла брови, и большие очки в темной роговой оправе упали у нее со лба на переносицу.
- Зачем вы облучались кварцем? Что за мальчишеские вы
ходки?- бросила она недовольно.
- Простите, но это не кварц. Это- солнце. Я сорок часов работал веслом, четыре дня жил на воде, в лодке. Там же и спал, под брезентом.
- Вы с ума сошли! Какая лодка? И как вы спали?
- Три часа ночью, два часа днем. На сене.
- Раздевайтесь!

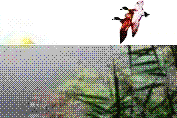

Главная >> Литература >> Сердце охотника

Литература об охоте, природе, рассказы
ПОИСК ПО САЙТУ:
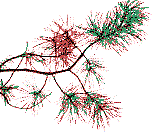
Новости охоты, рыбалки. Реклама



Я нехотя сбросил рубашку: загар не обрывался у меня на шее резкой полоской и легкой позолотой расходился по груди и по спине.
- Быть таким неблагоразумным, снимать рубашку в апреле,
на воде, на что это похоже? - распекала меня Берта Яковлевна, прикладывая большое и теплое ухо к моей груди.
Пришлось объясниться:
-Не удержался! Дни стояли такие теплые, работать веслом было жарко. Но я старался не остывать.
Берта Яковлевна резко провела пальцем крест-накрест по моей груди и пристально глядела, как побелевшие полоски на коже становились пунцовыми. Мимоходом она тронула мышцы, которые налились, окрепли, пробормотала что-то невнятное и снова принялась выслушивать меня. Сердце, видимо, работало, как очень исправный насос.
Взглянув на меня с видимым удивлением, Берта Яковлевна стала что-то записывать на листке таким размашистым почерком, что я не смог прочесть ни одного слова.
-Вы уж признавайтесь по-хорошему: наверное, и еще что-нибудь было, что выходит за пределы предписанной вам нормы?
-Было, было! - вздохнул я и решил начать с лирического отступления.- Представьте, доктор, такую картину: затухает еще один весенний день, на воду падают длинные тени затопленных осин, в широкое половодье большой Поломети вливается коричневая торфяная речушка с острыми гривками скрытых водой берегов. Мы подгребаемся пропешками и жадно вслушиваемся. И вдруг где-то за поворотом раздается жваканье селезня: жвак! жвак! Весенняя песня любви, и каждый поет ее по-своему. Наши подсадные утки, отдыхающие в корзинах, начинают истошно кричать на призыв жениха: ах-ах-ах! Мы с товарищем молча переглядываемся и торопимся найти такое местечко, где можно спрятать лодки, высадить уток на воду и с волнением ждать, когда же подлетит на зов подружки красавец селезень с изумрудной головкой и серебристой грудкой. И гремит выстрел. Музыка!
- И это нравится!? Я предпочитаю слушать музыку в Кисловодске, с веранды санатория,- усмехнулась Берта Яковлевна, но от бумаги оторвалась и взглянула на меня как-то по-новому, с интересом.
- Каждому свое, доктор! Но, я надеюсь, вы наделены пылким воображением?
Берта Яковлевна кивнула.
- Вот и представьте себе: кругом неизъяснимая тишина; почти беззвучно садится пчелка на золотистую веточку вербы, захлестнутую водой; иногда прожужжит шмель. Потом тишина исчезнет, не хуже соловьев разливаются дрозды, где-то в чаще робко пробует голос кукушка. На воду смотреть нельзя, она - само солнце! Э, да что говорить! Только вышла у нас досадная оказия.
- Надеюсь, не членовредительство? Я слышала: охотники подстреливают друг друга.
- Это - из области басен. А у нас - просто оказия. Василий Михайлович высадил мою утку, помог мне загнать лодку в кусты и отправился в одну интересную такую заводь. Я закрыл корму лодки щитком из прутьев ивы и стал заламывать
веточки вокруг суденышка. Заря догорала, я поторопился, нечаянно нажал на правый борт, в лодку хлынула вода. Я шарахнулся влево, вода кинулась через тот борт, и моя лодка, словно торпедированное судно, мигом скрылась под водой.
- Ужас! - выдохнула Берта Яковлевна, глядя на меня широко раскрытыми глазами.- Больной! Это же безумие!
- Так ведь это только начало. Вы не знаете, Берта Яковлевна, что такое "гагара"? Конечно, я имею в виду не птицу.
- Понятия не имею!
- Это подставка для стога сена. На высоком основании - этакая площадочка: три больших шага вдоль и поперек. Такие "гагары" ставятся на заливных лугах, чтобы осенью", когда реки выходят из берегов, не намокало сено. Я уговорил Василия Михайловича не беспокоиться обо мне, выловил ружье, патроны, подхватил плавающий меховой пиджак, нащупал на дне рюкзак с остатками провизии, и все это развесил на кустах, стоя в воде до подбородка. Затем ухитрился поднять лодку, вычерпнул из нее воду и поплыл к "гагаре". Там кое-что развесил на шестах, кое-что разложил на пожухшем сене и стал выплясывать нагишом все известные мне танцы, чтобы не озябнуть. Смешно вспомнить, но в это время начали тянуть надо мной вальдшнепы: "цви-цви", "кох-кох-кох!" Я прикладывал ружье к голому плечу, стрелял, и три птицы упали неподалеку от меня в воду. Затем приехал мой друг. У него нашлось запасное белье, валенки и старая армейская шинелишка. Мы выпили с ним в один присест три чайника кипятку, легли в обнимку на брезенте и спали мертвецким сном. Днем я пообсох, но ватные штаны мокрыми так и домой привез.
Берта Яковлевна глядела на меня с содроганием. Но не перебивала, И только когда я закончил рассказ, довольно грубо схватила меня за руку и так развернула, что я зашатался.
Она внимательно выслушала меня, заставив глубоко вдыхать пропахший аптечным духом воздух, удивленно пожала плечами и спросила;
- Может быть, насморк или фурункул? Не беспокоят?
- Что вы! К удивлению, я ни на что не жалуюсь.
- Идите домой и не показывайтесь на глаза полгода! Я не люблю больных, которые так легкомысленно относятся к моим советам. Стреляйте! Кричите вместе со своей уткой: "Ах-ах-ах!". Жвакайте и забудьте дорогу в поликлинику! Боже мой, что за мужчины пошли в наш век? Ах-ах-ах! Цви-цви! - басовито крикнула она мне и распахнула дверь из кабинета - широко, мощно.
Я шел домой и думал: может быть, я нанес обиду своему врачу, вылечившись не по его рецептам? Может быть, я случайно нашел что-то новое, еще не известное лечащему врачу? Всяко бывает!
Шел и мысленно продолжал разговор с той пожилой дамой, которая выставила меня из кабинета.
- Взять бы тебя, дорогая Берта Яковлевна, на охоту, да растрясти в лодке, да окунуть в воду, да еще дать надышаться до боли в легких пьянящими ароматами весны. И не была бы ты, матушка, такая дородная, и не скучала бы о кисловодской веранде. И хорошо бы понимала, как важно иной раз утомленному городскому человеку дать в руки ружье или удочку. И тогда они по-иному смогут услыхать это самое "цви-цви", и это самое "ах-ах-ах", которые пока недоступны пониманию уважаемой Берты Яковлевны.
Весна. Утки кряквы:

